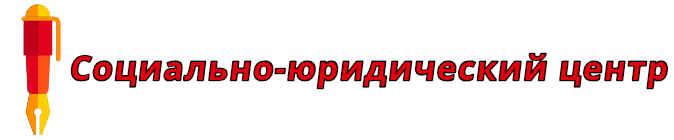Кормер в наследство
Кормер в наследство
29 января выдающемуся русскому писателю и философу Владимиру Федоровичу Кормеру исполнилось бы 75 лет. Нельзя сказать, что он совсем забыт. Но тираж его двухтомника составляет 1500 экземпляров. Скорее всего, это и есть потолок нынешнего активного интереса к творчеству одного из самых ярких и талантливых семидесятников — литературному и философскому.
И это притом, что в конце существования СССР казалось: Кормер заново открыт не только диссидентской, литературной и философской публикой, но и широким читателем — его главный роман «Наследство» увидел свет в «Октябре», а затем отдельным изданием в «Совписе», причем тиражом 50 тыс. экземпляров (сравните с сегодняшними полутора тысячами!); главная статья — «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» — опубликована в «Вопросах философии», журнале, где он когда-то проработал много лет.
Потом развалился Советский Союз, и проблемы, которые мучили Кормера и его героев, стали неактуальными (сам же он умер от рака в начале перестройки). Литературные журналы отказывались печатать неопубликованные произведения Кормера, ссылаясь на то, что они написаны давно, хотя качество лучших образцов его прозы едва ли сегодня превзошел хотя бы один из современных писателей, включая даже очевидных лидеров — Улицкую, Сорокина, Пелевина и других. Прошло почти два десятилетия с момента последней масштабной публикации — и вдруг Кормер пугающе, ошеломляюще актуален! И как раз в своих главных произведениях!
Именно об этом я подумал, когда в день презентации двухтомника оказался у метро «Сокол» и на знаменитом сталинском доме на Алабяна, аккурат над гастрономом, куда захаживал другой замечательный бытописатель советского среднего класса — Юрий Трифонов, увидел гигантских размеров указатель «Развлекательный центр». Убедительная стрелка повернулась строго в направлении известной каждому москвичу церкви Всех Святых. Абсурд постсоветской действительности вызвал в памяти последнюю сцену «Наследства», которая разворачивается как раз рядом с этой церковью, где Кормер собрал не только героев романа, но и, как на картине Босха, всё многообразие советских «продуктов разных сфер»: «Стаями бродили длинноволосые бухие парни, страшными воплями разгоняя встречных. Алкаши вымогали у проходивших копейки. Слышался возбужденный девичий смех. С замкнутыми, осуждающими лицами двигались под руку пожилые пары. Отрешенно, гордо шли бородатые неофиты. Азартом горели глаза интеллигентов. Деловито спешили куда-то подтянутые филеры в тирольских шляпках и куртках, не без презрения посматривая на собравшихся. Недоуменно переминалась компания «золотой молодежи» — подающие надежды нувориши из кинематографических жучков или дети нуворишей — при мехах и дубленках… Тут же из толпы, словно из омута времени, из глубин памяти, вынырнул еще один — по облику урка, из тех, что наводняли Москву после амнистии 1953 года, фиксатый, кепка с разрезом, модная у них тогда, белое кашне, воротник поднят. Втянув голову в плечи, он мгновенно по-воровски пропал. Затем возникли двое несусветных калек, ободранных и перекошенных, Бог весть где обретавшихся в другие дни года; безногий, с шутками и прибаутками прытко скакавший на деревяшке, вел за собой слепого».
Пожалуй, точный, слишком точный портрет социальных слоев Советского Союза 1970-х годов, представленный в максимально концентрированном, но ничуть не гипертрофированном виде. Безжалостное краткое описание социальной стратификации «совка», сделанное философом и социологом, но художественными средствами, стоившее сотен алармистских записок в ЦК, готовившихся тогдашними лучшими академическими институтами.
«Наследство» часто сравнивают с «Бесами» Достоевского: здесь показаны все «ветераны броуновского движения», вся диссидентская рать. Но главное даже не в этом. «Наследство» оставляет ощущение запертости героев (и читателей) в наглухо закрытой коробке социальных обстоятельств, из которых они не могут выбраться. Социальные тупики дополняются ментальными: счастья нет ни в подпольной борьбе за демократию, ни в толстовских экспериментах, ни в православии. Везде ложь, амбиции, грязь, блуд, сумасшествие — и абсолютная безвыходность. Вполне по Достоевскому — «таракан попал в стакан».
Такая книга, конечно, не могла быть официально опубликована при советской власти. Потому что она была безжалостна к этой власти — без лишних эмоций и красивых определений. Но роман не приняла и диссидентская среда, потому что Кормер показал ее мелочность и пошлость. Зияющие высоты пика Коммунизма дополнялись бессмысленным движением в тупик Фронды и Эскапизма. Примерно такой же роман можно было бы написать о нашем тупиковом времени, если бы у этого времени нашелся свой писатель.
Сам автор «Наследства» никогда не был диссидентом, а застойную любовь к застольям совмещал со службой в журнале «Вопросы философии», где наряду с официальным и умным лидером — главредом Иваном Фроловым существовал неформальный лидер — блестящий и остроумный заведующий отделом зарубежной философии Владимир Кормер. Это была типичная жизненная стратегия того времени — двоемыслие. Его пылко обличал в своем знаменитом эссе «Образованщина» Александр Солженицын. Однако именно он отметил и обильно процитировал в «Образованщине» некоего Алтаева, опубликовавшего в «Вестнике РСХД» статью о двойном сознании интеллигенции. Издатель кормеровского двухтомника редактор издательства «Время» Борис Пастернак говорит, что публикация творческого наследия Кормера — последняя просьба Солженицына.
В «Образованщине» он упоминает «блестяще отграненные у Алтаева шесть соблазнов русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический». У Кормера в статье «Двойное сознание интеллигенции» есть еще соблазн просветительский. И, если положить руку на сердце, как минимум три соблазна до сих пор испытывает либеральная интеллигенция, равно как и — при честной самооценке — автор этих строк. Вот соблазн просветительский: «Нынешний интеллигент просвещает либо своих сотоварищей, таких же интеллигентов либо даже льстит себя надеждой просветить саму государственную власть, начальство! (Кто как не Кормер, сотрудник идеологического ежемесячника, который едва не разогнали в 1974 году, знал об этом достоверно! — А.К.) Он полагает, что там наверху и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть…» О, как это узнаваемо!
А вот соблазн оттепельный, пережитый заново в 2008 году, сразу после инаугурации Дмитрия Медведева: «Как и революционный соблазн, он живет в тайниках интеллигентского сознания всегда, в виде надежд на перемены перемен он ждет с нетерпением и, затаив дыхание, ревностно высматривает всё, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены».
В этой узнаваемости, впрочем, верные признаки того, что интеллигенция жива и по сей день. Владимир Кормер был ее зеркалом. И остается таковым и сегодня. «Наследство» забыто, да здравствует «Наследство»!
Автор — президент фонда «Центр политической философии»
Владимир Кормер — Наследство
Владимир Кормер — Наследство краткое содержание
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Роман «Наследство» не имел никаких шансов быть опубликованным в Советском Союзе, поскольку рассказывал о жизни интеллигенции антисоветской. Поэтому только благодаря самиздату с этой книгой ознакомились первые читатели. Затем роман был издан в Париже (под редакцией Ю. Кублановского), но полный авторский вариант вышел в журнале «Октябрь» в 1990 году.
Наследство — читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Оформление, макет — Валерий Калныньш
Наследство. — М.: Время, 2009. — 736 с. — (Собрание сочинений)
ISBN 978-5-9691-0425-9 (общий) ISBN 978-5-9691-0426-6 (т. 1)
© Владимир Кормер, наследники, 2009 © составление, 2009
9 7859 69 10426 6
Герой «случайного семейства» (о жизни и прозе Владимира Кормера)
В романе «Подросток» Достоевский назвал себя художником «случайного семейства», в котором отсутствуют «родовое предание и красивые законченные формы». Зато, полагал писатель, они есть в устоявшемся культурном слое «средневысшего» дворянства, — именно о нем и думал Пушкин, замысливая свои «преданья русского семейства». Первый роман Владимира Кормера (29.01.1939 — 23.11.1986) называется «Предания случайного семейства» (1970). Итак, в первом же своем он романе смело сопрягает две темы, два символа русской культуры, давая две скрытые цитаты — пушкинские «предания» (это как о чем-то устоявшемся) и достоевское «случайное семейство». Сразу — этим заглавием — он вводит свое творчество в контекст русской классики. И тем самым показывает, на каком поле собирается играть.
Достоевский задавал тревожный вопрос: «не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно родовых, семейств русских с неудержимою силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе?». После революции случайным семейством стала вся Россия. Кормер берет на себя смелость назвать себя писателем, изображающим броуновское движение России, превратившейся в «случайное семейство». Ибо предания — это о прошлом, но которое длится и сегодня. Его герои, как и герои Достоевского, — люди из интеллигентного слоя. Из них самые близкие автору еще помнят о необходимости чести, достоинства, порядочности. Но в принципе произошла великая смесь, «смазь», о которой писал Достоевский. Подлинная интеллигенция была изгнана, расстреляна, посажена в лагеря, выжившая — люмпенизирована. В «Преданиях» герой рассуждает: «Николаю Владимировичу вдруг стало особенно жаль, что все здесь перед ним утратило свою чистую определенность: и крестьяне пред ним — были не крестьяне, и сказки, что они рассказывали, были не сказки, и сам он, — в конце-то концов! — в каком качестве сидел между ними?! Он лишь усмехнулся тому, насколько прежде все-таки было все четче: барин был барином, мужик — мужиком, и интеллигент — интеллигентом, не то, что нынче, когда он и сам не понимал, кто он таков, и никто за столом не понимал этого. „Скорее всего, я здесь просто чужак, сказал он себе, — несмотря на, что рос, как и они, среди полотняных ширмочек и ситцевых занавесочек, и жена моя, как и они, кухарка. В этот демократический век не осталось больше ни черной, ни белой кости, остались только чужие и свои“». И еще одну фразу Николая Владимировича, деда героя-подростка, о котором роман, я должен привести: «Стремления моей юности были соблазном. Я был глуп, суетен, я не знал, как следует, что такое сострадание, — сама жизнь научила меня всему. А если дел моих и не увидало человечество, то ведь и не для себя я живу. Вероятно, бывают эпохи, когда люди должны лишь молча страдать, а всякое творчество есть лишь ложь и самообольщение…»
Но все же остались герои, которые взяли на себя ношу русской культуры, пытаясь удержать уровень русской духовности. Несмотря ни на что!
У поэта Наума Коржавина есть замечательные строчки, написанные в 1952 году и полностью относящиеся к таким людям ноши, в том числе и к Володе:
Ни к чему,
ни к чему,
ни к чему полуночные бденья
И мечты, что проснешься
в каком-нибудь веке другом.
Время?
Время дано.
Это не подлежит обсужденью.
Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нем.
Ты не верь,
что грядущее вскрикнет,
всплеснувши руками:
«Вон какой тогда жил,
да, бедняга, от века зачах».
Нету легких времен.
И в людскую врезается память
Только тот,
кто пронес эту тяжесть
на смертных плечах.
Вот эту тяжесть Володя Кормер и пытался нести. И нес. Как-то в разговоре со мной Игорь Виноградов сказал, что ему как тогдашнему завотделом прозы «Нового мира» понравились сразу кормеровские «Предания». Но что они были «из другого ящика». Из какого — не пояснил. Смысл был тот, что непроходные. Но почему? И хотя «антисоветчины» в тогдашнем даже понимании в этом тексте не было, «Предания» так и не были напечатаны. Это был роман о становлении подростка в послевоенное время, о взрослении не физическом, а метафизическом, отнюдь не политическом. Уже после смерти Володи его главный роман «Наследство» опубликовал журнал «Октябрь» (1990) и тут же перепечатал «Советский писатель» (1991). А в предисловии к отдельному изданию романа Виноградов написал, что, получив в свой отдел прозы «Предания случайного семейства», он понял: «повесть уже тогда обещала в В. Кормере возможность будущей крупной писательской судьбы»[1]. Мне многое непонятно в этом пассаже — а главное тон вершителя «писательских судеб». Очевидно пьеса «Горе от ума» тоже кое-что обещала в судьбе ее автора. Вероятно, возможность стать крупным писателем. Повторяю: первая же вещь Кормера — уже явление настоящей прозы, написал бы он что-нибудь потом или нет. А любой подлинности надо радоваться как подарку. Но трудно было поверить, трудно было осознать, что среди очень талантливых советских писателей (пишу слово «талантливых» серьезно) появился реальный продолжатель наследия русской классической литературы. Продолжатель, показавший, что наследство это — не музейный экспонат, оно вполне живет и работает. Сразу хочу сказать, что бытовизма как такового в этом тексте не было. Писатель сразу ставит проблему теодицеи — а можно ли оправдать Бога за происшедшее с Россией. Спор дочери, матери героя, с отцом — дедом героя: «Нет. — В ее голосе прозвучали решительность и еще что-то, чего Николай Владимирович сначала не понял и лишь мгновение спустя разобрал: презрение. — Нет, я не верю! — продолжала она. — Потому, что если б Он был, то должен был бы осуществлять одну функцию — справедливость. А что делает Он? За что Он наказывает тебя или меня? Конечно, ни ты, ни я — не совершенства. Пусть. Но ведь есть же и большие, чем мы, грешники, мы не пользуемся властью, не воруем, не угнетаем своих ближних, не убиваем, и ты и я, мы знаем массу людей, о которых заведомо безо всякой ложной скромности, можно сказать, что они хуже нас». Получалось, что Россия как случайное семейство была в Высших замыслах. Это было трудно переварить. Нужно обладать для этого мужеством зрения и мысли.
Владимир Кормер как зеркало русской интеллигенции
Забытое «Наследство»
Владимир Кормер как зеркало русской интеллигенции
29 января выдающемуся русскому писателю и философу Владимиру Федоровичу Кормеру исполнилось бы 74 года. Нельзя сказать, что он совсем забыт. Но тираж его двухтомника составляет 1500 экземпляров. Скорее всего, это и есть потолок нынешнего активного интереса к творчеству одного из самых ярких и талантливых семидесятников — литературному и философскому.
И это притом, что в конце существования СССР казалось: Кормер заново открыт не только диссидентской, литературной и философской публикой, но и широким читателем — его главный роман «Наследство» увидел свет в «Октябре», а затем отдельным изданием в «Совписе», причем тиражом 50 тыс. экземпляров (сравните с сегодняшними полутора тысячами!); главная статья — «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» — опубликована в «Вопросах философии», журнале, где он когда-то проработал много лет.
Потом развалился Советский Союз, и проблемы, которые мучили Кормера и его героев, стали неактуальными (сам же он умер от рака в начале перестройки). Литературные журналы отказывались печатать неопубликованные произведения Кормера, ссылаясь на то, что они написаны давно, хотя качество лучших образцов его прозы едва ли сегодня превзошел хотя бы один из современных писателей, включая даже очевидных лидеров — Улицкую, Сорокина, Пелевина и других. Прошло почти два десятилетия с момента последней масштабной публикации — и вдруг Кормер пугающе, ошеломляюще актуален! И как раз в своих главных произведениях!
Именно об этом я подумал, когда в день презентации двухтомника оказался у метро «Сокол» и на знаменитом сталинском доме на Алабяна, аккурат над гастрономом, куда захаживал другой замечательный бытописатель советского среднего класса — Юрий Трифонов, увидел гигантских размеров указатель «Развлекательный центр». Убедительная стрелка повернулась строго в направлении известной каждому москвичу церкви Всех Святых. Абсурд постсоветской действительности вызвал в памяти последнюю сцену «Наследства», которая разворачивается как раз рядом с этой церковью, где Кормер собрал не только героев романа, но и, как на картине Босха, всё многообразие советских «продуктов разных сфер»: «Стаями бродили длинноволосые бухие парни, страшными воплями разгоняя встречных. Алкаши вымогали у проходивших копейки. Слышался возбужденный девичий смех. С замкнутыми, осуждающими лицами двигались под руку пожилые пары. Отрешенно, гордо шли бородатые неофиты. Азартом горели глаза интеллигентов. Деловито спешили куда-то подтянутые филеры в тирольских шляпках и куртках, не без презрения посматривая на собравшихся. Недоуменно переминалась компания «золотой молодежи» — подающие надежды нувориши из кинематографических жучков или дети нуворишей — при мехах и дубленках… Тут же из толпы, словно из омута времени, из глубин памяти, вынырнул еще один — по облику урка, из тех, что наводняли Москву после амнистии 1953 года, фиксатый, кепка с разрезом, модная у них тогда, белое кашне, воротник поднят. Втянув голову в плечи, он мгновенно по-воровски пропал. Затем возникли двое несусветных калек, ободранных и перекошенных, Бог весть где обретавшихся в другие дни года; безногий, с шутками и прибаутками прытко скакавший на деревяшке, вел за собой слепого».
Пожалуй, точный, слишком точный портрет социальных слоев Советского Союза 1970-х годов, представленный в максимально концентрированном, но ничуть не гипертрофированном виде. Безжалостное краткое описание социальной стратификации «совка», сделанное философом и социологом, но художественными средствами, стоившее сотен алармистских записок в ЦК, готовившихся тогдашними лучшими академическими институтами.
«Наследство» часто сравнивают с «Бесами» Достоевского: здесь показаны все «ветераны броуновского движения», вся диссидентская рать. Но главное даже не в этом. «Наследство» оставляет ощущение запертости героев (и читателей) в наглухо закрытой коробке социальных обстоятельств, из которых они не могут выбраться. Социальные тупики дополняются ментальными: счастья нет ни в подпольной борьбе за демократию, ни в толстовских экспериментах, ни в православии. Везде ложь, амбиции, грязь, блуд, сумасшествие — и абсолютная безвыходность. Вполне по Достоевскому — «таракан попал в стакан».
Такая книга, конечно, не могла быть официально опубликована при советской власти. Потому что она была безжалостна к этой власти — без лишних эмоций и красивых определений. Но роман не приняла и диссидентская среда, потому что Кормер показал ее мелочность и пошлость. Зияющие высоты пика Коммунизма дополнялись бессмысленным движением в тупик Фронды и Эскапизма. Примерно такой же роман можно было бы написать о нашем тупиковом времени, если бы у этого времени нашелся свой писатель.
Сам автор «Наследства» никогда не был диссидентом, а застойную любовь к застольям совмещал со службой в журнале «Вопросы философии», где наряду с официальным и умным лидером — главредом Иваном Фроловым существовал неформальный лидер — блестящий и остроумный заведующий отделом зарубежной философии Владимир Кормер. Это была типичная жизненная стратегия того времени — двоемыслие. Его пылко обличал в своем знаменитом эссе «Образованщина» Александр Солженицын. Однако именно он отметил и обильно процитировал в «Образованщине» некоего Алтаева, опубликовавшего в «Вестнике РСХД» статью о двойном сознании интеллигенции. Издатель кормеровского двухтомника редактор издательства «Время» Борис Пастернак говорит, что публикация творческого наследия Кормера — последняя просьба Солженицына.
В «Образованщине» он упоминает «блестяще отграненные у Алтаева шесть соблазнов русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический». У Кормера в статье «Двойное сознание интеллигенции» есть еще соблазн просветительский. И, если положить руку на сердце, как минимум три соблазна до сих пор испытывает либеральная интеллигенция, равно как и — при честной самооценке — автор этих строк. Вот соблазн просветительский: «Нынешний интеллигент просвещает либо своих сотоварищей, таких же интеллигентов либо даже льстит себя надеждой просветить саму государственную власть, начальство! (Кто как не Кормер, сотрудник идеологического ежемесячника, который едва не разогнали в 1974 году, знал об этом достоверно! — А.К.) Он полагает, что там наверху и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть…» О, как это узнаваемо!
А вот соблазн оттепельный, пережитый заново в 2008 году, сразу после инаугурации Дмитрия Медведева: «Как и революционный соблазн, он живет в тайниках интеллигентского сознания всегда, в виде надежд на перемены перемен он ждет с нетерпением и, затаив дыхание, ревностно высматривает всё, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены».
В этой узнаваемости, впрочем, верные признаки того, что интеллигенция жива и по сей день. Владимир Кормер был ее зеркалом. И остается таковым и сегодня. «Наследство» забыто, да здравствует «Наследство»!
Автор — президент фонда «Центр политической философии»
Русский
толстый журнал как эстетический феномен
- Новые поступления
- Журналы
- ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ
- Арион
- Вестник Европы
- Волга
- Дружба Народов
- Звезда
- Знамя
- Иностранная литература
- Нева
- Новая Юность
- Новый Журнал
- Новый Мир
- Октябрь
- Урал
- НОН-ФИКШН
- Вопросы литературы
- НЛО
- Неприкосновенный запас
- НОВОЕ В ЖЗ
- Homo Legens
- Prosōdia
- ©оюз Писателей
- День и ночь
- Дети Ра
- Зеркало
- Иерусалимский журнал
- Интерпоэзия
- Крещатик
- Новый Берег
- АРХИВ
- ВОЛГА-ХХI век
- Зарубежные записки
- Континент
- Критическая Масса
- Логос
- Новая Русская Книга
- Новый ЛИК
- Отечественные записки
- Сибирские огни
- Слово\Word
- Старое литературное обозрение
- Студия
- Уральская новь
- Проекты
- Вечера в Клубе ЖЗ
- Египетские ночи
- Премия «Поэт»
- Премия Алданова
- Премия журнала «Интерпоэзия»
- Поэтическая премия «Anthologia»
- Страница Литературной премии И.П.Белкина
- Страница Литературной премии им. Ю.Казакова
- Академия русской современной словесности
- Страница Карабчиевского
- Страница Татьяны Тихоновой
- Авторы
- Выбор читателя
- О проекте
- Архив
- Контакты
Владимир Кормер, его время и его герои
Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 г. в Архангельской области. Закончил Факультет журналистики МГУ. Как критик публикуется с 1981 г. Заместитель главного редактора «Континента». Дневник в Живом Журнале — erm_kontinent. Живет в Москве и Ярославле.
Владимир Кормер, его время и его герои
Владимир Кормер оставил не так много. Но это вещи высокого качества. Его лучший роман называется «Наследство». Наследство самого Кормера — проза и драматургия острого смысла, сильных идей и ярких образов.
Его роман «Наследство» я перечитывал с острым, непреходящим интересом. И хотелось бы дать отчет в первую очередь самому себе: в чем тут дело. Почему. Люблю такие литературные вещи, секрет которых нетривиален, которые нравятся «просто так», не из-за тенденции и не по сумме рассудочно выверенных причин. Чужие слова, далекая жизнь… Но роман засасывает в себя и при всей видимой своей дисгармоничности обладает гипнотическим эффектом: ты попадаешь в его мир, и ты в нем остаешься надолго даже и после того, как перевернута последняя страница. Может быть, навсегда. Нет, удивительно, что такая, на первый взгляд, разболтанная, путаная, не очень уже понятная и внятная история — скорее свободная панорама с реминисценциями — может так увлечь.
Когда-то, в момент создания, эта книга в основной своей части была предельно актуальной. Была обжигающе современной, с подтекстом и живыми прототипами. Так сказать, летопись современности, живая история неофициальной, малотрезвой, расхристанной, богемно-андеграундной, прицерковно-диссидентской Москвы начала 70-х (где-то так) годов. Есть легендарные свидетельства о том, как ее в рукописи читали тогда в Москве и какие страсти порой закипали. До меня тогда такие рукописи не доходили, а если б я ее и прочитал, то едва ли бы много понял по молодости и глупости. Хотя чуть позднее краешком своей жизни и коснулся той среды, которая была описана Кормером.
Книгой, в легальном режиме, «Наследство» вышло много позже, уже в другое время. А теперь уже впечатление новости так давно прошло и времена столько раз повернулись вокруг оси, что роман имеет характер отчасти любопытного исторического свидетельства. Как будто бы так. Но риск-ну внести уточнение: в нем есть, — и перечитывание показало мне это, — нечто неустаревающее, есть очевидные зерна вневременности. Есть даже что-то такое, что особенно значимо уже в наше время, в момент глубокого духовного обморока и декадентских завихрений, в момент, когда личная мобилизация на великое и святое особенно трудна (как, впрочем, трудна она и для многих, если не всех героев Кормера).
Кормеровское «Наследство» — не просто точная проза художественно трансформированного документа, социального свидетельства с детективной жилкой. Это и почти невероятный и совершенно исключительный, удивительный и удивляющий по сию пору роман гротескно-барочного стиля, полный странных героев и неожиданных положений, открывающий реальность по вертикали: от эмигрантских задворок, от канувших в небытие коммуналок и проходных дворов советской Москвы до храмового неба и нетленной вечности. Может быть, именно так: позднесоветское барокко, история жгучей тайны, история отщепенства и затерянности, бессмыслицы сущего и веры в чудо и в вечность (или жажды такой веры). Роман, начинающийся историей внезапного острого помешательства и попытки самоубийства одной из героинь — и кончающийся пасхальной храмовой службой.
От самоубийства — к воскресению, магистральный сюжет.
Впрочем, сюжет это ненатужный и реализуемый без насилия над жизнью. Жесткого сюжета вообще в принципе нет. Напомню канву истории. Молодой провинциал, Вирхов, пробующий себя в литературе, знакомится с персонами из круга неофициозной московской публики. Диссидент Хазин, мечтающий о священстве Мелик, священник отец Владимир, литератор с лагерным прошлым Лев Владимирович… Блуждание по Москве, поиски себя, встречи, новые и новые люди… У Вирхова завязывается роман с Таней Манн, переводчицей и богоискательницей, попутно возникают и некоторые другие романические осложнения; время от времени некоторые из названных героев выходят на первый план, и Кормер подробно вникает в их человеческое содержание. Параллельно идет рассказ о русских эмигрантах первой волны, возникают фигуры аристократа-публициста Муравьева, интеллектуала-редактора журнала Кондакова, тайного советского агента Проровнера, пропагандирующего «смену вех»… В итоге некоторыми персонажами эти истории из двух поколений отечественных вольнодумцев оказываются связаны. Таня Манн, как выяснится ближе к концу, — дочь Муравьева и унаследовала после его гибели немалое состояние… В момент самых острых драматических осложнений Кормер в финале сводит многих своих персонажей на пасхальной службе в храме.
Все так и не так. И помешательство немолодой дамы с богатым прошлым оказывается не совсем банальным, скорее героиню настигает, как вражеская погоня, сознание бессмысленности и бесперспективности ее бытия… И главная служба года в храме предстает не в слащавом облаке сусального хэппиэнда, а — отчасти — некоей очной ставкой героев с Богом, на которой многие из них обнаруживают, что вес их слишком мал или и вовсе под вопросом. И все в этом мире двоится, расстраивается. Нет или почти нет ничего надежного на плоскости здешнего (тогдашнего) бытия.
Это роман, где мистерия соседствует с фельетоном, с шаржем. Это вечная проза религиозных исканий и экзистенциального выбора. Но это и едкий фарс о московском богемном авангарде постоттепельных времен.
Ближе к финалу в романе пару раз возникает характерное словцо «амальгама». Так еще в эпоху Французской революции называли, оказывается, судебные процессы, на которых объединяли политических противников режима с уголовниками. Но что-то в этом роде происходит в душе и в жизни чуть не каждого из главных героев кормеровского романа. Мир человека здесь — тоже своего рода амальгама, где противоестественно соединяются противоположности, несочетаемые вещи, мысли, слова и поступки.
По сути, роман держится предельным натяжением одной важнейшей мысли или интуиции о полярном устройстве бытия. Она имеет акцентировано религиозный характер и заключается в том, что мир насквозь и непоправимо поражен злом, человек изъеден и изъязвлен грехом, нет ни в мире, ни в человеке живого места, нет Дома (взамен его — коммуналки и психушки; разве что храм еще хранит свою сакральную ауру), нет сада, все сдано и заколочено, затоптано в прах, в упадке и развале, — но (НО!) и в этом вот мире есть не улавливаемое рассудком веяние Бога, и в человеке — дрянном, смешном, убогом — отпечатан Божий лик, есть у него тяга к иному, к высшему, к вечному.
Это роман о плаче и молитве (а отчасти просто роман-плач и роман-молитва) — из бездны, deprofundis.
Человек — средоточие полярных начал, в его душе воистину дьявол с Богом борется. И он, человек, обрел в той среде и в тот момент, о которых идет у Кормера речь, беспредельную свободу, эмансипировался от любой азбучной морали, расковал свои мысль и плоть, он вольно болтается в мире, не связывая себя роковыми обязательствами, он часто безответственен и непредсказуем, нервен и истеричен, много пьет и странно любит, поступки его нередко сомнительны, поведение его заслуживает осуждения или вызывает смех. Но он знает минуты полета, минуты служения и самоотречения, минуты бескорыстной жертвы. И как-то так все завязано в нем, в его жизни, в его голове и в его сердце, что одно без другого немыслимо. Так говорит Кормер. И ему веришь. Поскольку, кстати, знаешь это по себе.
Кормеру удалось нащупать в мире и в человеке ту глубину, которая не снилась многим его писателям-современникам; мне приходилось об этом спорить в своем блоге, сравнивая Кормера с Юрием Трифоновым. Герои его — Таня Манн, Мелик, Лев Владимирович, Хазин, Вирхов — часто нелепы, странны и смешны. Однако были ли в тот момент люди лучше?
Они интересны. Не просто с ними что-то происходит, но они сами живут, на свой страх и риск, наотмашь, ошибаясь, разбиваясь, умирая и… воскресая. Какими бы они ни были, их социальная значимость и духовная значительность выше, чем у персонажей легальных прозаиков тогдашнего литературного мейнстрима. Прозаиков, правдоподобно, но скучно писавших о позднесоветском «среднем классе» как о классе никому теперь не интересных обывателей и гедонистов.
Они, эти значимость и значительность кормеровского персонажа, без сомнений существенно выше, чем у нынешнего среднемосковского человека из нашей богемы и тусовки бездарных, пошло и глупо прожитых нулевых годов. Время катится под уклон, и человек мельчает.
Конечно, эта книга, в отличие от прозы того же Трифонова, старательного и умелого бытописателя интеллигентской жизни, не имела ни одного шанса на публикацию в СССР. Но она пошла по рукам и имела, как уже сказано, резонанс. Многие, говорят, обиделись. Некоторые нашли в романе памфлет на интеллигенцию. В ход пошло характерное определение — современные «Бесы»1. У прозаика Евгения Попова я нашел мысль: Кормер написал тогда провидческий роман про новых «бесов», взыскующих социализма с пьяным человеческим лицом.
Это так и не так. Да, издержки конспирации, тотальность подозрений в сексотстве и слабость грани, отделяющей здесь вроде б допустимое от невозможного, топос психушки и душевное нездоровье иных героев — это все есть. Но бесовщина у Кормера — это не особое качество отдельных людей, не болезнь, сконцентрировавшаяся в отдельно взятых «идеологах», в каком-то специфическом кружке или группе. Это, я бы сказал, характерная примета едва ли не каждого современного человека, и вот уж много лет как.
Внимательными читателями замечено, что важнейший источник вдохновения для Кормера в «Наследстве» — Достоевский2. Может быть, и он сам, и его герои совпадают со многими героями-интеллигентами Достоевского — по социальной формации.
С подачи Солженицына принято стало интеллигенцию позднесовет-ских времен обзывать «образованщиной». И сам наш автор, Кормер, написал суровую статью о двойном сознании интеллигенции. Однако я бы поостерегся ставить знак равенства между умозрительными концептами и живыми людьми, героями реального литературного произведения.
Все-таки пафос причастности, тоска по миссии — это то, что роднит героев кормеровского «Наследства» именно с интеллигенцией досовет-ской поры. Я б сказал, что роман — сам по себе свидетельство о социокультурном факте: в поколении 60–70-х годов на его вершинах воскресла интеллигенция как миссионистская духовная элита. Кормер смотрит на нее умным, отстраненно-остраняющим взглядом (как, впрочем, и на тогдашний клир, и на простонародье) и в то же время неудержимо ей сочувствует.
С другой стороны, кормеровские персонажи и коллизии — это не копии, не эпигонские воспроизведения. И роман Кормера — не фантазия на тему Достоевского и о Достоевском, типа «Осени в Петербурге» Дж. Кутзее.
Не только автор «начитался» Достоевского, но и его герои тоже его «начитались». И еще много всякого, нужного и ненужного, прочитано ими наудачу. Да и живут они в той отчаянной горячке, которая близка атмосфере романов Достоевского. Есть тут совпадение в ментальном стиле жизни.
Однако когда начинаешь думать всерьез, то понимаешь, что в своем романе Кормер гораздо, наверное, ближе к Толстому: по способу свидетельства о мире героя и по той логике, в какую вписана история каждого персонажа. Как правило, персонажи Кормера отнюдь не люди фанатически реализуемого проекта, не люди одной, но пламенной страсти, идеи, которая организует все их существование. Это скорее люди пути, люди поиска, мятущиеся души, люди динамично и противоречиво развивающейся душевной жизни. У них есть характер, но существование их состоит из поисков, метаний, полетов и срывов.
Пожалуй что, в их брошенном на плоскость будней бытии немало мелкой неврастении, случайных падений — и меньше, чем могло бы быть, серьезности, сосредоточенности и ответственности. Иными словами, Кормер с любовью- и с зоркостью пишет о современных людях. Людях, мало способных к четкой фиксации. Иногда совсем слабых, конформистах с нечистой совестью.
Когда он возвращается в романе к истории первой эмиграции, у него появляются и другие персонажи, те, кому в основном удается удержать себя, явить себя вовне относительно цельно и строго. Русская аристократия ХХ века, сочетавшая в личном опыте свободу и достоинство со служением и жертвой: Кондаков, Муравьев.
Они тоже не монолитные памятники. Но все-таки это несколько иная порода, с гораздо более развитой памятью о чести, долге, призвании… Она, очевидно, дорога Кормеру. В «Преданиях случайного семейства» один из героев в дни Второй мировой войны рассуждает сам с собой так: «Видит Бог, что если я и жалел когда-то, что не родился дворянином или вообще в какой-нибудь хорошей старой семье, то это не потому, что я кичлив и хотел бы еще кичиться своими предками, но потому лишь только, что хотел бы иметь возле себя человека с традициями, с достоинством. Такого, который бы незаметно, с детства, научил бы меня правильному взгляду на мир, сказал бы: это должно, этому следуй, а это презирай, не пристало тебе радоваться такому вздору. Вот примерно и все, ведь тут и не надо многого. И пусть бы меня не учили ни языкам, ни истории, ничему другому, пусть бы даже ничего не говорили, но только, чтобы я видел, что эти люди, мои близкие, что-то имеют внутри себя, какой-то стержень, что они в чем-то непреклонны, не сбиты с толку всеми этими событиями, не боятся ответить на недоумение ребенка. »
Треть века спустя об этих, о таких людях не остается даже внятных воспо-минаний. А понятия чести и долга, нормы личной порядочности человеку приходится вырабатывать самостоятельно, не столько из живой традиции (ко-торой, по Кормеру, уже практически нет за пределами храма), сколько по книжкам, читая писателей или философов и богословов иных времен, или как следствие обретенной веры и личной рефлексии Евангелия. Таков у пи—сателя даже лучший из духовного сословия, отец Владимир… Плохо, что этим людям не всегда удается остаться на приличном уровне или набрать нужную меру достоинства. Хорошо, что они лезут в эту гору и, даже срываясь, чаще всего понимают, где верх, а где низ. И если даже в этом иногда ошибаются, поддаваясь соблазнам3, то — не потеряли саднящего чувства духовной непол-ноценности и способности к покаянию. Они могут быть слабы и смешны, ли-шены аристократизма, они в основном «полузнайки», но они — идеалисты и искатели, люди риска и беды, пытающиеся бороться не только с внешним врагом, но и — сначала — с собой, нащупать принципы конкретной, предмет-ной этики (хотя бы так: «Это ведь очень важно, как вы себя ведете в очереди, отталкиваете ли вы старушек. Сколькие из наших знакомых, считающих себя твердыми христианами, отталкивают!»). И это для меня главное.
Вообще, Кормер в своей прозе искал подходы к жизни и интонацию, ориентируясь на русских классиков XIX века. Как художник-неоклассик он шел примерно тем же путем, каким шли его персонажи в поисках смысла собственного бытия. То есть — срезал дистанцию, пытаясь напрямик выйти к главным вершинам русской прозы. Не подражал, не эпигонствовал, а брал основные принципы повествования для того, чтобы дать форму новому содержанию, не меньше доверяя великой традиции, чем личному вкусу и произволу. Наиболее убедительно это получилось в «Наследстве». Очень неплохо — в «Кроте истории», где сплавлены Гоголь с Достоевским, и в «Преданиях случайного семейства» (матрица семейной хроники, слитая с душеведением по Толстому). Но и в относительно скромной по задаче «Человеке плюс машине» есть любопытная проба такого рода: здесь Кормер, как мне кажется, остраняя и слегка пародируя научно-интеллигентскую прозу (типа гранинской книги «Иду на грозу»), привлекает логику и интонации гоголевского «Миргорода», гоголевский живой, легкий, безунывный сказ.
Итак, мы уже начали говорить о традиции. Возвращаясь к проблематике «Наследства», уместно спросить: что за «наследство» получают и делят в романе? Если оставить в стороне интригу, связанную с деньгами Муравье-ва, то выходит, что это наследство русской интеллигенции, противоречивой, непостоянной и все же всегда горящей и алчущей, стремящейся и не обретающей? Скорее всего.
Идейность задач и беспочвенность идей, по Георгию Федотову. Но что можно взять у тех, кому не принадлежит ничего?
Оказывается, можно. Не сами старые идеи, а скорее алгоритм поиска. В итоге у Кормера мы видим, что в двух поколениях развивается этот упорный, отчаянный поиск почвы. В поколении первой эмиграции он часто заводил в «евразийский» тупик, в воспаленные мечты о возвращении на родину, оборачивающиеся советской ангажированностью и попаданием в чекистские сети. История агента ГПУ Проровнера и всей его компании в романе представлена блестяще. А в поколении шестидесятников этот поиск обусловил немалые разброд и шатания (если следовать кормеровской классификации соблазнов, то в оттепельно-нетрезвом, технократическом, а то и патриотическом духе).
Но здесь, в это время и в этом месте, в Москве рубежа 60–70-х годов, у Кормера (да и в принципе) особенно характерен и интересен вектор богоискательства, опора в небесной родине, которую ищут и находят лучшие его герои.
Некогда Кормер задавался вопросом, который не на шутку его тревожил и на который он имел право, как мало кто: «Что изобретет русская интеллигенция? Будет ли это новый русский мессианизм по типу национал-социалистического германского, восторжествует ли технократия, или дано нам будет увидеть новую вспышку ортодоксального сталинского коммунизма? Но чем бы это ни было, крушение его будет страшно. Ибо сказано уже давно: “Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят. ”»4.
Прошедшие с тех пор годы и сроки показали, что тревожный пафос писателя был вполне уместен. В 90-е годы интеллигенция как социальный и культурный авангард общества не выдержала, увы, исторического экзамена, а в итоге даже испугалась свободы и в значительном большинстве просто рассеялась без остатка, как пропали некогда все колена Израиля. Нельзя не говорить об этом без горечи. Но нельзя не говорить об этом. Да и ныне люди, претендующие на статус интеллектуалов, блуждают в каких угодно потемках, но зачастую далеки от элементарных понятий о человеческом предназначении и удобоваримом общественном устроении. Да, долж-ны придти соблазны, но горе тому…
Однако нет смысла впадать здесь в дидактический тон. Замечу лишь еще, что атмосфера религиозных исканий, воссоздаваемая в «Наследстве», несет в себе освежающие заряды бескорыстия, свободы, любви. Из ничтожества и пошлости прорастают цветы новой общинной жизни. Они увядают, люди не могут нести бремя и ищут себе оправданий. Но в этом-то зыбком ничтожестве, в этой суете и даже лжи зарождается что-то, что случалось, случается и может случиться в России; то, что связано с личностным ростом, иногда мучительным, всегда ненапрасным, — и что соотносится нами с трудно утверждающим себя в умах и душах соотечественников социальным идеалом христианской демократии.
Неясно, впрочем, что нас ждет и на что мы окажемся способны в XXI ве-ке. Ясно, что Кормер — сегодня писатель «для немногих счастливцев», как сказал бы Стендаль. Но если есть у России будущее, то оно за ними. И за ним.
1 «…толстенный роман “Наследство” на тот момент был настоящим бестселлером московского самиздата. Мне он достался в виде неудобочитаемых, переплетенных, как сейчас помню, в черный дерматин двух толстенных томов фотокопий с машинописи. И тем не менее я прочел роман одним духом, не отрываясь. Это и были советские “Бесы” — диккенсовской архитектоники классический разветвленный роман о жизни московских диссидентов, христианских компаний, стукачей, батюшек, иностранных авантюристов и гетер московского андерграунда, — с почти детективной интригой, многочисленными отступлениями в дореволюционные и довоенные годы, с клубком судеб персонажей». — Климонтович Н. «Метрополь» и подметрополье. Литературные игры нашего поколения // http://saturday.ng.ru/deeds/2000-09-23/1_metropol.html
2 Например: «…немалый для отечественного прозаика соблазн существовал еще в недавние годы, когда ни писатели, ни читатели не боялись больших литературных объемов, — написать роман «о главном», скалькировав у Достоевского и горячечные исповеди, и сбивчивые многостраничные диалоги и монологи, и лихорадочно убыстряющуюся пружину сюжета. Лет тридцать назад такие романы наводняли самиздатскую Москву: огромные кипы бледной машинописи, — казалось, зрение потеряешь, читая. Ан нет, шли они нарасхват, передавались из рук в руки и имели своих горячих адептов». — Кублановский Ю. Чижик-пыжик и повертон// «Новый Мир», 2003, № 8. Цит. по: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2003/8/kublanov.html
3 Из суждения Кормера, получившего одобрение А. Солженицына в его «Образованщине» («блестяще отграненные у Алтаева шесть соблазнов русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности». — Цит. по: http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/obrazovan.txt), уже пытались, как из пробирки, вывести смысл «Наследства». Очень возможно, что на каком-то этапе замысла автор романа имел эту типологию в виду.
4 Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // «Вопросы философии», 1989, № 9. С. 79.